
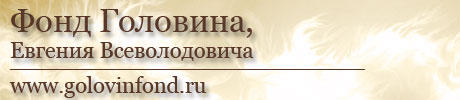




Рембо (перевод из Гуго Фридриха) |
| 01.01.1995 |
Версия для печати  |
| (Продолжение)
Итак, цель поэта:
“проникнуть в неизвестное”,
или еще: “увидеть невидимое,
услышать неслышимое”. Мы
знакомы с этими понятиями.
Они есть у Бодлера и
обозначают стерильную
трансцендентность. Рембо их
также никак не приближает. Он
лишь удостоверяет
негативный признак желанной
цели. Это различается, как недостижимое
и недействительное, как
вообще “иное”, но не
конкретизируется. Это
подтверждается поэзией
Рембо. В ее резком взрывном
выходе из действительности
первично именно
высвобождение взрывной
энергии, ведущее к
деформации действительности
в ирреальные образы, но нет
знаков подлинной
трансцендентности. “Неизвестное”
остается и у Рембо
бессодержательным полюсом
напряженности. Поэтический
взгляд смотрит сквозь
обломки действительности в
пустынную тайну.
Кто, собственно,
смотрит? Ответы Рембо стали
знамениты. “Так как "я"
— совсем другое. Это не
заслуга меди — проснуться
духовым инструментом. Я
присутствую в расцвете своей
мысли, присматриваюсь к ней,
прислушиваюсь к ней. Я
провожу смычком, и
пробуждается симфония в
глубине. Нельзя заявить: я
думаю. Надо сказать: я
продумываюсь”. Субъект
поэтической визии — не
эмпирическое “я”. Другие
власти проступают на его
место, власти из глубины
предличностного характера и
направленной мощи. Только
они способны к созерцанию “неизвестного”.
Вероятно, в такого рода
фразах можно проследить
мистическую схему:
самоотдачу “я”, покоренного
божественным вдохновением.
Однако покорение свершается
из глубины. “Я” погружается,
обезволивается в
коллективных глубинных
слоях> (“1'ame
universelle”).
Мы стоим на
пороге современной поэзии:
новый опыт добывается не из
тривиальной мировой
субстанции, но из хаоса
бессознательного. Понятно,
что сюрреалисты XX века
восприняли Рембо как одного
из своих родоначальников.
Очень важен
дальнейший ход мысли:
обезвоживание “я”
достигается оперативным
способом. Интеллектуальное
упорство направляет процесс.
“Я хочу стать поэтом и работаю
ради того, чтобы им стать”, —
так звучит целевая фраза.
Работа заключается “в
длительном, безграничном,
осмысленном смешении,
запутывании всех ощущений,
всех чувств”. Еще резче: “Необходимо
сотворить себе
деформированную душу — так
человек сеет бородавки на
своем лице и выращивает их”.
Поэтическое становление
требует самоувечья,
оперативной
обезображенности души ради
того, чтобы “достичь
неизвестного”. Смотрящий в
неизвестное, поэт,
становится “великим больным,
великим преступником,
великим проклятым и высшим
ученым”. Таким образом
анормальность не является
более роковой
предопределенностью, как
когда-то у Руссо, но
сознательно выбранной
позицией. Поэзия отныне
связывается с
предположением, что
интеллектуальное упорство
должно разрушить структуру
души, поскольку это дает
возможность слепого прорыва
в предличностную глубину и
стерильную
трансцендентность. Мы весьма
далеки от одержимого
провидца греков, от
провозвестия музами воли
богов.
Поэзия,
достигнутая с помощью
подобных операций,
называется “новый язык”, “универсальный
язык”: безразлично, имеется
ли здесь форма или нет. Эта
поэзия есть соединение “отчужденного,
текучего, отвратительного,
завораживающего”. Все
сводится к единому уровню, в
том числе прекрасное и
безобразное. Ее ценности —
интенсивность и “музыка”.
Рембо говорит о музыке
повсюду. Он именует ее “неизвестной
музыкой”, слышит ее “в
замках, построенных из
костей”, в “железной песне
телеграфных столбов” — это
“светлая песнь новых
катастроф”, “раскаленная
музыка”, в которой
расплавляется “гармоничная
боль” романтиков. Там, где в
его поэзии звучат вещи или
сущности, всегда крик и
скрежет в пересечениях
невероятного мотива —диссонантная
музыка.
Вернемся к
письмам. Очень красивая
фраза: “Поэт определяет меру
неизвестного, владеющего
душой его времени”. И далее
программное утверждение
анормальности: “Поэт —
анормальность, тяготеющая к
норме”. Провозвестие звучит
так: “Поэт вступает в
неизвестное и, даже если он
не понимает собственных
видений, он их, тем не менее,
видит. Он может погибнуть в
гигантском прыжке через
неслыханное и безымянное:
иные, ужасные рабочие
начнут с того горизонта, где
он разбился”.
Поэт — рабочий,
взрывающий мир возможностью
повелительной фантазии,
направленной в
неизвестность.
Предчувствовал ли Рембо, что
враждебные друг другу
пионеры современности,
технический рабочий и
поэтический “рабочий”,
встретятся втайне, поскольку
они оба диктаторы: один над
землей, другой над душой?
Разрыв с
традицией
Мятеж этой
программы, равно как и самой
поэзии, одновременно обращен
назад, к уничтожению
традиции. Известен
читательский пыл мальчика и
юноши Рембо. Ранние стихи
созданы в полном созвучии с
авторами XIX столетия. Однако
в созвучии этом ощущается
резкий тон — от Рембо, не от
прочитанных образцов.
Усвоенные литературные
примеры накаливанием или
переохлаждением превращены
в совершенно другую
субстанцию. Влияния,
созвучия имеют при оценке
Рембо весьма вторичное
значение. Они подтверждают
то, что они подтверждают во
всех иных случаях: ни один
автор не начинает с ноля. Но
— ничего специфического для
Рембо. Поражает мощная
трансформация прочитанного
материала: Рембо хочет
разрыва с традицией и
оттачивает ненависть к традиции.
“Проклясть предков”, —
характерное место во втором
письме провидца.
Рассказывают, что он находил
смехотворным Лувр и призывал
сжечь национальную
библиотеку. Если подобные
призывы звучат по-детски, то
как объяснить их смысловую
согласованность с
последним произведением
(“Saison”)?
Оно
хоть и написано юношей, но
детским его назвать трудно.
Вызывающее отчуждение Рембо
от публики и эпохи
закономерно переходит в
отчуждение от прошлого. И
основания здесь не личного, а
духовно-исторического
свойства. Отмирание сознания
преемственности и подмена
его эрзацем — историзмом и
музейными коллекциями —превратило
прошлое в груз, от которого
всячески хотели избавиться
некоторые мыслители и
художники XIX столетия. Это
осталось серьезным
симптомом современного
искусства и поэзии. В свои школьные времена Рембо деятельно занимался латынью и античностью. Но в его текстах античность выступает в диком и шутовском виде. Ординарное, повседневное так или иначе стаскивает миф с пьедестала: “вакханки предместий”; Венера приносит мастеровым водку; посреди большого города олени приникают к сосцам Дианы. Гротеск, найденный Виктором Гюго в средневековых мираклях и соти, распространяется здесь, напоминая Домье, на мир античных богов. Поражает радикальностью сонет “Venus Anadyomene” 2.
Название ассоциируется с
одним из красивейших мифов:
рождение Афродиты (Венеры) из
морской пены. В жестком
диссонансе вдет содержание:
из зеленой железной ванны
поднимается жирное женское
тело с белесой шеей и
натертым докрасна
позвоночником; в нижней
части спины намалеваны слова “Clara Venus”; в
анатомически точно
указанном месте сидит нарыв.
Можно видеть в этом пародию
на типичную тематику
тогдашней поэзии (“Парнаса”
3
прежде всего), но
пародию без юмора. Атака
направлена против мифа
самого по себе, против
традиции вообще, против
красоты, атака высвобождает
волю к деформации, которая —
и это примечательней всего —
обладает достаточной
художественностью, чтобы
придать уродству и гримасе
уверенность логического
стиля.
|
| Комментарии | ||
| Комментарии отсутствуют | ||
